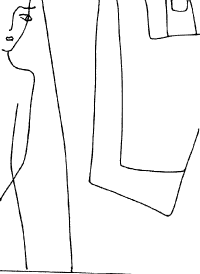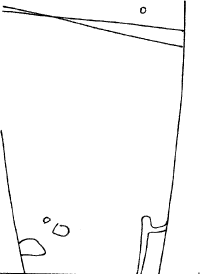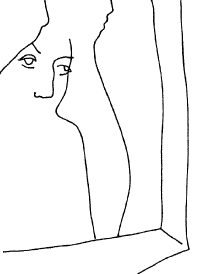
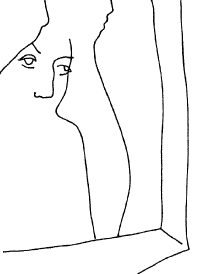
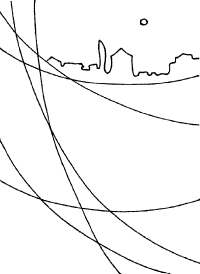
Все эти дни, с того памятного утра, его преследовал этот мотив. Происходило это всегда неожиданно, и Леонид не мог уловить какую-либо причинную связь его возникновения. Занимаясь самыми обычными каждодневными делами на работе или дома, начинал он вдруг напевать одну и ту же мелодию, грустную-грустную... никогда прежде не слыханную им. И откуда она только взялась? И что все это значит?.. И, вообще, какого черта он едет куда-то, когда его присутствие совершенно необходимо на работе (вот-вот сдача объекта), а начальство даже не знает о его выходке! Впрочем, и жена тоже. Вот так, неожиданно, собрался он сегодня и поехал вместо работы на вокзал.
— Завтра телеграммы дам. И начальству, и домой... А из Еревана он позвонит и все объяснит. Все? Ну, придумает, что сказать. Уже стемнело. Внизу женщины все о тряпках, о каких-то страшных болезнях, о разных небылицах толковали — бессоница их, видно, замучила, или вот встретились два человека, которым дома и поговорить не с кем, а тут тебе и тишина, и хочешь не хочешь, а сидишь друг против друга на расстоянии локтя, поезд укачивает, и как-то легко на душе и высвобождается незаметно, слово за словом, все наболевшее... Он опять
попытался заснуть и опять неудачно... Тоска
заела... А эти фонари чертовы, что вдоль дороги
расставлены, все норовили через равные
промежутки времени ослепить его, будоражили...
Вот жена-то
взвоет, когда узнает! Как это так? Ни с того ни с
сего, взял да уехал и слова прощального не сказал
даже! Леонид представил себе, как будет грозна
жена в истерике, проклиная тот день, когда вышла
замуж за этого полоумного... А ее многочисленная
родня выстроится, как для группового портрета, и
каждая голова внезапно родившегося Чудища будет
по очереди, не перебивая друг друга,
пророчествовать:
— Говорили
тебе, уедет, не задержится!
— Говорили
тебе: подумай!
— А
сколько он зарабатывает?..
И жена
будет биться головой о подушку и кричать:
— Так мне и
надо, дуре! Так и надо!
А родня
снова по кругу:
—
Говорили, не спеши, непутевая...
— Подружки
твои как устроились! Небось не по любви
выходили!..
Чуть
погодя «Чудище» сердобольное прижмет к себе их
маленьких детишек и, поглаживая нежные головушки
своими ручищами-лапами, начнет песнь
изначальную, полную слез бутафорных:
— Ох, вы,
бедные сиротушки-то наши...
— И что же
с вами будет-то...
— Сбежал
от вас отец непутевый...
— Бросил
таких малюсеньких...
Ох, и
взвоет начальство, когда узнает о его выходке! Ох,
и взъерепенится! Ох, и позеленеет!
— Как он
посмел?!
— Какие
такие обстоятельства?!
— И не умер
никто и не при смерти!
—
У-во-о-о-о-о-о-лю! — закричит оно, ногами затопает и
желчью изойдет.
«И в самом
деле уволить могут,» — подумал Леонид
растерянно. Оправдательного документа ведь нет и
не предвидится... Зато будет кому возрадоваться.
Есть один подхалимчик, хоть и мелкий, но упорный...
а «свято место» пусто не бывает. «Сперва мое
место займет, а лет так через пять, смотришь, и до
главного доберется».
Тут поезд
остановился, как раз напротив фонаря, и мощный
сноп света ослепил Леонида, Он отвернулся от
окна, но свет преследовал его, нестерпимо резало
глаза...
От боли
Леонид закрыл их, и память в этой искусственно
созданной темноте начала рисовать отдельными
штрихами...
Вот телега,
еще одна. Арба, и тут арба, и тут... Их много,
множество, собранных на какой-то площади... а вот и
очертания города... очень знакомые по описаниям...
Эрзрум! Вдруг на всех этих арбах появляются
люди... армяне. Какие-то всадники, вооруженные,
кружат вокруг и стегают плетками случайно
подвернувшихся им на пути...
Его
оглушил плач тысяч женщин и детей*...
* — имеется
в виду массовое уничтожение армян, осуществлное
младотурецким правительством в 1915 год
повсеместно.
Потом в
этом видении появились омерзительные старухи,
хохочущие ему прямо в лицо, и Леонид явственно
различал их гнилые зубы, растрескавшуюся кожу, их
ядовитые глаза.
Потом
выполз из-за стены его школьный завуч, с палкой, и
погнался за ним, выкрикивая что-то ругательное...
Потом жена,
взобравшись на книжный шкаф, сбрасывала с него
какие-то папки и кричала на весь дом:
— Только и
знаешь, что пыль разводить!
А вся ее
многочисленная родня выстроилась в ряд, согласно
старшинству, и метлами, метлами пыль эту из дома...
А где-то, на
берегу реки... Арбы с людьми сваливались в воду, а
тех, кто выбирался, пристреливали тут же, на
берегу, рассекали им головы ятаганами... отрубали
руки, ноги...
И почему-то
— ни единого звука...
Только в
нем самом — мелодия, та самая, стала проступать,
проигрываться, нарастая во времени...
Река на
глазах краснела... В красной от крови тысяч людей
воде плыли и обломки арб, и жалкие пожитки
«переселенцев»*, и тонущие лошади, и человеческие
трупы.
* — Под
видом переселения турецкие власти выводили
армянское население за пределы городов и селений
и безжалостно уничтожали.
... и
незаметно для себя он уснул. Ему снился город.
Большой, многоликий... у моря. И душная ночь.
Костры на пустынному берегу. Леонид потому их и
видит, что сам в море, в воде... и тонет,
барахтается, гребет из последних сил...
Просыпается
он от страха... Из соседей — никого, а в вагоне шум
какой-то, паника. И только он с полки соскочил, как
раздался страшной силы удар. Вагон перевернулся
и упал под откос. При этом Леонид больно ушибся,
но выбраться через разбитое окно ему удалось.
В ночи
догорал поезд... Крики тех, кому удалось спастись,
плач детей оглушили его. Он было рванулся к
вагону, но резкая боль свалила в снег. И вот так,
лежа, смотрел Леонид на погибающий в огне поезд,
на пылающие бегущие маленькие фигурки людей.
Тысячекратно повторенный крик детей пронзал его
всего, но он не мог сдвинуться с места, чтобы хоть
как-нибудь помочь тем, кто остался в огне. И от
осознания собственного бессилия Леонид
заплакал...
Море не
хотело отпускать его... Оно заманило его своей
лаской, своей первозданностью, и теперь он
барахтался, выбиваясь из сил, и ничего не мог
поделать. Он не мог отыскать земли под ногами, а
берег, вот он, рукой подать, а до берега — целая
вечность, целая жизнь...
Когда
Леонид проснулся уже на самом деле, то очень
удивился: он лежал на полу. Это было невероятно!
«Неужели упал?!» Леонид попытался было встать, но
резкая боль тут же привела его в чувство, к
реальности происходящего... С трудом приподнялся,
дернул дверь влево и выбрался в коридор. Там он
уселся на откидной стул и стал растирать ногу,
как будто мог утихомирить боль...
Случившееся
с ним неприятно озадачило... Вагон мчался в ночной
темноте, и лишь свет от фонарей через равные
промежутки времени в коридор и освещал его ногу.
Ему показалось даже, что на брючине начала
проступать кровь, но все-таки был несказанно рад,
что все, только что происшедшее с ним, оказалось
сном... Впрочем: «А может, и эта сиюминутность мне
снится?» Уверенности в том, что это происходит в
действительности, у него уже не было...
В детстве
была у него любимая байка, про пещеру, в которую
он спускался не раз, и не один, а с другом...
И чего там
только с ними не приключалось!.. Оно и понятно:
какая байка без преувеличений? Но со временем эта
детская фантазия стала обрастать реальными
подробностями... И самое странное, — по
прошествии нескольких лет Леонид уже сам веровал
в то, что пещера эта и впрямь существовала, и они
туда спускались, уж во всяком случае несколько
раз, и если о «приключениях» он утвердительно
сказать ничего не может, зато «хорошо» помнил
ручеек, протекающий по дну этой злосчастной
пещеры...
И вот так,
бессвязно повторяя слова «не было...», «не было...»
и сидя на откидном стуле, Леонид заснул. Остаток
ночи прошел благополучно... и лишь на рассвете его
разбудил проводник, высокий крепкий мужчина с
большими закрученными усами, мохнатыми бровями и
седой головой.
Проводник
был тактичен в меру или прикидывался таковым,
чтобы на всякий случай угодить каждому. Он ничего
не спросил: раз сидит человек — значит надо. С кем
не бывает...
Забыв про
свой вчерашний недуг, Леонид встал, и странно:
нога не болела, совсем... а за окном земля лежала
без снега. Но погода еще не определилась, и вместо
желанного солнца — по всему небу надоевшие тучи.
И день от них серый, а настроение подавленное...
Кошмары
ночи вдруг снова предстали перед ним... и он
поспешил в купе, подальше от своего одиночества.
Там пили
чай с вареньем, закусывали домашними пирожками.
Появление Леонида заметно оживило старушку:
— Какой вы
скрытный! Вот и не ночевали почему-то. Может, у вас
тут Симпатия какая?..
— Может, и
Симпатия, — бззлобно улыбаясь, ответил Леонид —
А за что вы так страдаете?
— Да все об
вас, молодых, беспокоюсь. Порадоваться
напоследок хочется. За себя поздновато, вроде...
— И на том
спасибо. Только лукавите! Небось, есть что
вспомнить? Про молодые годы?
— Ой ли! Ой
ли! — знакомо забеспокоилась старушка, смущенная
таким оборотом в их диалоге... потом разговор
как-то коснулся его национальности, и соседушки
принялись гадать:
— Еврей!
—
Украинец!
— Грек!..
Леонид
усмехнулся их напрасным стараниям, уже привыкший
к тому, что его принимают за кого угодно, но
только не за армянина...
Как-то в
Уфе, куда судьба его забросила однажды, спустился
он в ресторан при гостинице «Россия», подсел к
столу, за которым уже устроилось трое заезжих
армян, очень похожих на торговцев. Не торопясь,
поглядывая на него, они заговорили по-армянски.
Леонид сообразил, конечно, что речь о нем, но
поскольку родного языка в силу жизненных
обстоятельств не знал, то и делал вид
равнодушного человека... Впрочем, он давно привык,
что его принимают совсем за другого.
Вот и
тогда, те трое... перемалывали ему косточки и не
понимали всей скользкости создавшейся
ситуации...
Тут
подошла официантка, бойкая, розовощекая девица, и
стала очень культурно к нему приставать:
— Вы, между
прочим, червонец мне задолжали...
— Это
когда же? — спросил Леонид в полной
растерянности, ведь только с вокзала приехал...
— Вчера,
между прочим...
— Да я
только сегодня здесь появился. Вы меня с кем-то
путаете!
— Не может
быть! Фамилия ваша Бахурдарян?
— Что вы,
девушка! Она, конечно, тоже на «ян» оканчивается,
но звучит совсем по-другому...
Девица,
щелкая каблуками, исчезла, а вот его соседи
переглянулись. Языки прикусили. Видно, сболтнули
лишнее, теперь и сами не рады. Чуть погодя
спросили по-армянски...
— Не
понимаю, — ответил Леонид.
А что мог
сказать?
Смотрит —
не верят. Но он действительно не понимает, как это
ни драматично. А они — не верят, думают —
придуривается...
Ситуация
для общения, согласитесь, не из лучших...
Расплатившись, они ушли в полной уверенности, что
он — лгун.
Соседям по
купе так и не удалось ничего выяснить.
«Инкогнито» свое он не открыл им, а взобрался на
верхнюю полку, достал блокнот и принялся
записывать впечатления, воспоминания,
размышления. Так он делал обычно, когда не мог
разобраться в ситуации сразу, слишком близка
была дистанция, и взгляд, и разум на таком
временном расстоянии выхватывали только
фрагменты целого, пока непонятного. Нужно было
время, нужна была работа ума, чтобы осознать
происходящее сегодня, сейчас, связать это с
прошлым и будущим.
Первая
запись в блокноте
«В нашей
семье один только я родился в Ереване. А увидел
его впервые лет в двенадцать. Запомнил местную
«Венецию» да выучил десятка два слов по-армянски.
Вот и весь мой багаж на сегодняшний день. Так уж
жизнь сложилась, непутевая...».
Тут чей-то
хриплый голос в коридоре отвлек его от
воспоминаний...
— Ма-цу-ун!
Ма-цу-ун! Со-сис-ки! Горячие со-сис-ки!
Он не успел
за человеком в белом халате. Тот уже ушел со своей
корзинкой, наполненной едой, и только хвост
сосисек маячил перед глазами, хотя и был далеко
от него... И Леонид побежал за сосисками, за
голосистым мацунщиком.Уж очень хотелось есть и с
этим приходилось считаться: от голода ему
становилось дурно...
Он едва
успевал открывать и закрывать тамбурные двери,
переходные мостки уходили из-под ног, а иные,
горбатые, даже норовили сбить его, сбросить под
колеса, и хотя разум определял абсурдность
такого исхода (слишком узки были щели), но что-то
там, внутри, сжималось, и появлялась легкая дрожь
во всем теле... Он опасливо перешагивал через
щербатые мостки, через щели между ними, сквозь
которые мельтешили земля и шпалы...
Когда же
Леонид добрался до вагона-ресторана, то
несколько растерялся: что именно ему тут нужно?
«Мацунщика» в белом халате обнаружить не
удалось. Исчез, испарился, как маг, а может, и
загипнотизировал его, Леонида, хотя что он ему
сделал такого? Или что мог?
В зале, за
обеденными столиками, сидели два работника
ресторана и пересчитывали деньги.
Пересчитывали,
не обращая внимания на посетителей, молча, по
четкой системе: складывая красные «бумажки» к
красненьким, синие — к синим... в аккуратные
пачечки и чтобы все — в одну сторону... и делали
это с каким-то особым вожделением, словно считали
свои собственные, а не государственные... Впрочем,
никто ведь не знает, чьи они на самом-то деле...
Может, и вправду, собственные?..
И вместо
того, чтобы сразу потребовать чего-нибудь
съедобного, Леонид, загипнотизированный этим
священнодейством, стоял и смотрел, не отрываясь,
на мелькающие потные руки торгашей, на шуршащие
замусоленные бумажки — такие красные, синие,
желтые... И вроде бумажки самые что ни на есть
обыкновенные... Раньше назывались по-чудному и
строго официально: «Кредитный билет», а сейчас
просто — «рубль», «рублишко», «бумажный»...
— Черт
возьми! — рявкнул кто-то рядом, но работники
ресторана даже ухом не повели...
— Шабаш! —
сказали солдатики за Леонидовой спиной,
развернулись и — восвояси.
Один лишь
он не уходил. Стоял. Смотрел. Ждал.
Тут кто-то,
проходя (бывает же такое), толкнул Леонида в бок,
нечаянно, легонько, и вот стоило ему только чуть
голову повернуть, как в буфете он увидел
маленькие стеклянные бутылки, с яркими
этикетками и содержимым апельсинового цвета под
названием «Фанта».
Вот те раз!
Сколько раз, там, в провинции, слышал он о
загадочной, мифической «Фанте». Сколько раз,
бывая проездом в Москве, пытался обнаружить
следы этого диковинного напитка — в ларьках,
магазинах, буфетах... И всегда безуспешно, а вот
тут, в каком-то самом рядовом вагон-ресторанном,
буфете вдруг натыкается на целую пирамиду из
ящиков с «Фантой». Бутылочки в 0,33 литра,
желтенькие, горлышко к донышку, снизу доверху.
Откуда ни
возьмись и мужик объявился, тот самый:
маг-волшебник, мацунщик-искуситель. Очень
симпатичный, между прочим...
Обрадованный
такой редкой в своей жизни удаче, он заказал
сразу пять бутылок. «Мацунщик» молча, серьезно
выставил заветные пять штучек «Фанты» и
уставился в ожидании платы... Леонид не знал,
сколько все это стоит, и поэтому на всякий случай
протянул пятирублевую бумажку. «Мацунщик» все
также молча сложил ее и спрятал в нагрудный
кармашек халата. Улыбнулся Леониду своей
обаятельной, до ушей, почти французской
барменской улыбкой и занялся своими делами, надо
полагать, неотложными... Словно, и нет покупателя,
ожидающего сдачи... А раз нет покупателя, о какой
сдаче может идти речь. И тогда Леониду стало даже
стыдно: «А вдруг и впрямь столько стоит. Хорошо,
что пятерка в руках оказалась, а то опозорился
бы».
С
приобретенным сокровищем двинулся он в обратный
путь, и поскольку обе руки его были заняты
бутылками, возвращение оказалось втройне
сложнее.
ВОТ ЧТО
СЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ БЕЗ УМА, БЕЗ УМА СДЕЛАНО...
«И черт
меня дернул за этим мацунщиком бежать! Сидел бы
себе в купе, чаек пил: и рублики при себе, и не
мучился бы так...»
А пока до
вагона своего добирался, все чертыхался... И по
поводу напитка, и продавца, и вагона-ресторана, и
вообще всего поезда... не так-то легко дверь
открыть и закрыть в таком положении, а дверей на
вагон — целых шесть штук, а вагонов — и не счесть
вовсе...
Только в
купе Леонид разобрался с «Фантой», и как его
провели, и почему он слова-то вымолвить не сумел...
Бутылка «Фанты» стоила 40 копеек.
— Вот тебе
и «мацунщик» — обаятельный человек, вот вам и
государственные замусоленные бумажки...
Он
прикинул число ящиков, стоящих в пирамиде, число
бутылок на ящик и перемножил на чистую прибыль.
Получилась сумма, превышающая его двухмесячную
зарплату. «Живут же люди!»
Настроение
его почему-то испортилось, и даже «Фанта» (из-за
которой сыр-бор) уже не радовала, хотя чисто
механически он отметил достоинтсва этого
заморского напитка... Впрочем, много позже Леонид
уяснит себе, что достоинства эти были липовые, а
привкус апельсина, исходящий от воды, — только
иллюзия, очень напоминающая улыбку мацунщика.
Эту ночь
Леонид провел беспокойно. В купе было душно. Как
обычно, он ворочался и, кажется, даже храпел. Но
утром ему никто не высказывал своего
неудовольствия... Правда, поглядывали как-то
подозрительно. «Неужели храпел? — подумал
Леонид, пристыженный этими взглядами. — А может,
что-то другое?» Он стал вспоминать подробности
вечерних и ночных событий.
Он опять
попытался заснуть и опять неудачно... Тоска
заела... А эти фонари чертовы, что вдоль дороги
расставлены, все норовили через равные
промежутки времени ослепить его, будоражили...
Вот жена-то
взвоет, когда узнает! Как это так? Ни с того ни с
сего, взял да уехал и слова прощального не сказал
даже! Леонид представил себе, как будет грозна
жена в истерике, проклиная тот день, когда вышла
замуж за этого полоумного... А ее многочисленная
родня выстроится, как для группового портрета, и
каждая голова внезапно родившегося Чудища будет
по очереди, не перебивая друг друга,
пророчествовать:
— Говорили
тебе, уедет, не задержится!
— Говорили
тебе: подумай!
— А
сколько он зарабатывает?..
И жена
будет биться головой о подушку и кричать:
— Так мне и
надо, дуре! Так и надо!
А родня
снова по кругу:
—
Говорили, не спеши, непутевая...
— Подружки
твои как устроились! Небось не по любви
выходили!..
Чуть
погодя «Чудище» сердобольное прижмет к себе их
маленьких детишек и, поглаживая нежные головушки
своими ручищами-лапами, начнет песнь
изначальную, полную слез бутафорных:
— Ох, вы,
бедные сиротушки-то наши...
— И что же
с вами будет-то...
— Сбежал
от вас отец непутевый...
— Бросил
таких малюсеньких...
Ох, и
взвоет начальство, когда узнает о его выходке! Ох,
и взъерепенится! Ох, и позеленеет!
— Как он
посмел?!
— Какие
такие обстоятельства?!
— И не умер
никто и не при смерти!
—
У-во-о-о-о-о-о-лю! — закричит оно, ногами затопает и
желчью изойдет.
«И в самом
деле уволить могут,» — подумал Леонид
растерянно. Оправдательного документа ведь нет и
не предвидится... Зато будет кому возрадоваться.
Есть один подхалимчик, хоть и мелкий, но упорный...
а «свято место» пусто не бывает. «Сперва мое
место займет, а лет так через пять, смотришь, и до
главного доберется».
Тут поезд
остановился, как раз напротив фонаря, и мощный
сноп света ослепил Леонида, Он отвернулся от
окна, но свет преследовал его, нестерпимо резало
глаза...
От боли
Леонид закрыл их, и память в этой искусственно
созданной темноте начала рисовать отдельными
штрихами...
Вот телега,
еще одна. Арба, и тут арба, и тут... Их много,
множество, собранных на какой-то площади... а вот и
очертания города... очень знакомые по описаниям...
Эрзрум! Вдруг на всех этих арбах появляются
люди... армяне. Какие-то всадники, вооруженные,
кружат вокруг и стегают плетками случайно
подвернувшихся им на пути...
Его
оглушил плач тысяч женщин и детей*...
* — имеется
в виду массовое уничтожение армян, осуществлное
младотурецким правительством в 1915 год
повсеместно.
Потом в
этом видении появились омерзительные старухи,
хохочущие ему прямо в лицо, и Леонид явственно
различал их гнилые зубы, растрескавшуюся кожу, их
ядовитые глаза.
Потом
выполз из-за стены его школьный завуч, с палкой, и
погнался за ним, выкрикивая что-то ругательное...
Потом жена,
взобравшись на книжный шкаф, сбрасывала с него
какие-то папки и кричала на весь дом:
— Только и
знаешь, что пыль разводить!
А вся ее
многочисленная родня выстроилась в ряд, согласно
старшинству, и метлами, метлами пыль эту из дома...
А где-то, на
берегу реки... Арбы с людьми сваливались в воду, а
тех, кто выбирался, пристреливали тут же, на
берегу, рассекали им головы ятаганами... отрубали
руки, ноги...
И почему-то
— ни единого звука...
Только в
нем самом — мелодия, та самая, стала проступать,
проигрываться, нарастая во времени...
Река на
глазах краснела... В красной от крови тысяч людей
воде плыли и обломки арб, и жалкие пожитки
«переселенцев»*, и тонущие лошади, и человеческие
трупы.
* — Под
видом переселения турецкие власти выводили
армянское население за пределы городов и селений
и безжалостно уничтожали.
... и
незаметно для себя он уснул. Ему снился город.
Большой, многоликий... у моря. И душная ночь.
Костры на пустынному берегу. Леонид потому их и
видит, что сам в море, в воде... и тонет,
барахтается, гребет из последних сил...
Просыпается
он от страха... Из соседей — никого, а в вагоне шум
какой-то, паника. И только он с полки соскочил, как
раздался страшной силы удар. Вагон перевернулся
и упал под откос. При этом Леонид больно ушибся,
но выбраться через разбитое окно ему удалось.
В ночи
догорал поезд... Крики тех, кому удалось спастись,
плач детей оглушили его. Он было рванулся к
вагону, но резкая боль свалила в снег. И вот так,
лежа, смотрел Леонид на погибающий в огне поезд,
на пылающие бегущие маленькие фигурки людей.
Тысячекратно повторенный крик детей пронзал его
всего, но он не мог сдвинуться с места, чтобы хоть
как-нибудь помочь тем, кто остался в огне. И от
осознания собственного бессилия Леонид
заплакал...
Море не
хотело отпускать его... Оно заманило его своей
лаской, своей первозданностью, и теперь он
барахтался, выбиваясь из сил, и ничего не мог
поделать. Он не мог отыскать земли под ногами, а
берег, вот он, рукой подать, а до берега — целая
вечность, целая жизнь...
Когда
Леонид проснулся уже на самом деле, то очень
удивился: он лежал на полу. Это было невероятно!
«Неужели упал?!» Леонид попытался было встать, но
резкая боль тут же привела его в чувство, к
реальности происходящего... С трудом приподнялся,
дернул дверь влево и выбрался в коридор. Там он
уселся на откидной стул и стал растирать ногу,
как будто мог утихомирить боль...
Случившееся
с ним неприятно озадачило... Вагон мчался в ночной
темноте, и лишь свет от фонарей через равные
промежутки времени в коридор и освещал его ногу.
Ему показалось даже, что на брючине начала
проступать кровь, но все-таки был несказанно рад,
что все, только что происшедшее с ним, оказалось
сном... Впрочем: «А может, и эта сиюминутность мне
снится?» Уверенности в том, что это происходит в
действительности, у него уже не было...
В детстве
была у него любимая байка, про пещеру, в которую
он спускался не раз, и не один, а с другом...
И чего там
только с ними не приключалось!.. Оно и понятно:
какая байка без преувеличений? Но со временем эта
детская фантазия стала обрастать реальными
подробностями... И самое странное, — по
прошествии нескольких лет Леонид уже сам веровал
в то, что пещера эта и впрямь существовала, и они
туда спускались, уж во всяком случае несколько
раз, и если о «приключениях» он утвердительно
сказать ничего не может, зато «хорошо» помнил
ручеек, протекающий по дну этой злосчастной
пещеры...
И вот так,
бессвязно повторяя слова «не было...», «не было...»
и сидя на откидном стуле, Леонид заснул. Остаток
ночи прошел благополучно... и лишь на рассвете его
разбудил проводник, высокий крепкий мужчина с
большими закрученными усами, мохнатыми бровями и
седой головой.
Проводник
был тактичен в меру или прикидывался таковым,
чтобы на всякий случай угодить каждому. Он ничего
не спросил: раз сидит человек — значит надо. С кем
не бывает...
Забыв про
свой вчерашний недуг, Леонид встал, и странно:
нога не болела, совсем... а за окном земля лежала
без снега. Но погода еще не определилась, и вместо
желанного солнца — по всему небу надоевшие тучи.
И день от них серый, а настроение подавленное...
Кошмары
ночи вдруг снова предстали перед ним... и он
поспешил в купе, подальше от своего одиночества.
Там пили
чай с вареньем, закусывали домашними пирожками.
Появление Леонида заметно оживило старушку:
— Какой вы
скрытный! Вот и не ночевали почему-то. Может, у вас
тут Симпатия какая?..
— Может, и
Симпатия, — бззлобно улыбаясь, ответил Леонид —
А за что вы так страдаете?
— Да все об
вас, молодых, беспокоюсь. Порадоваться
напоследок хочется. За себя поздновато, вроде...
— И на том
спасибо. Только лукавите! Небось, есть что
вспомнить? Про молодые годы?
— Ой ли! Ой
ли! — знакомо забеспокоилась старушка, смущенная
таким оборотом в их диалоге... потом разговор
как-то коснулся его национальности, и соседушки
принялись гадать:
— Еврей!
—
Украинец!
— Грек!..
Леонид
усмехнулся их напрасным стараниям, уже привыкший
к тому, что его принимают за кого угодно, но
только не за армянина...
Как-то в
Уфе, куда судьба его забросила однажды, спустился
он в ресторан при гостинице «Россия», подсел к
столу, за которым уже устроилось трое заезжих
армян, очень похожих на торговцев. Не торопясь,
поглядывая на него, они заговорили по-армянски.
Леонид сообразил, конечно, что речь о нем, но
поскольку родного языка в силу жизненных
обстоятельств не знал, то и делал вид
равнодушного человека... Впрочем, он давно привык,
что его принимают совсем за другого.
Вот и
тогда, те трое... перемалывали ему косточки и не
понимали всей скользкости создавшейся
ситуации...
Тут
подошла официантка, бойкая, розовощекая девица, и
стала очень культурно к нему приставать:
— Вы, между
прочим, червонец мне задолжали...
— Это
когда же? — спросил Леонид в полной
растерянности, ведь только с вокзала приехал...
— Вчера,
между прочим...
— Да я
только сегодня здесь появился. Вы меня с кем-то
путаете!
— Не может
быть! Фамилия ваша Бахурдарян?
— Что вы,
девушка! Она, конечно, тоже на «ян» оканчивается,
но звучит совсем по-другому...
Девица,
щелкая каблуками, исчезла, а вот его соседи
переглянулись. Языки прикусили. Видно, сболтнули
лишнее, теперь и сами не рады. Чуть погодя
спросили по-армянски...
— Не
понимаю, — ответил Леонид.
А что мог
сказать?
Смотрит —
не верят. Но он действительно не понимает, как это
ни драматично. А они — не верят, думают —
придуривается...
Ситуация
для общения, согласитесь, не из лучших...
Расплатившись, они ушли в полной уверенности, что
он — лгун.
Соседям по
купе так и не удалось ничего выяснить.
«Инкогнито» свое он не открыл им, а взобрался на
верхнюю полку, достал блокнот и принялся
записывать впечатления, воспоминания,
размышления. Так он делал обычно, когда не мог
разобраться в ситуации сразу, слишком близка
была дистанция, и взгляд, и разум на таком
временном расстоянии выхватывали только
фрагменты целого, пока непонятного. Нужно было
время, нужна была работа ума, чтобы осознать
происходящее сегодня, сейчас, связать это с
прошлым и будущим.
Первая
запись в блокноте
«В нашей
семье один только я родился в Ереване. А увидел
его впервые лет в двенадцать. Запомнил местную
«Венецию» да выучил десятка два слов по-армянски.
Вот и весь мой багаж на сегодняшний день. Так уж
жизнь сложилась, непутевая...».
Тут чей-то
хриплый голос в коридоре отвлек его от
воспоминаний...
— Ма-цу-ун!
Ма-цу-ун! Со-сис-ки! Горячие со-сис-ки!
Он не успел
за человеком в белом халате. Тот уже ушел со своей
корзинкой, наполненной едой, и только хвост
сосисек маячил перед глазами, хотя и был далеко
от него... И Леонид побежал за сосисками, за
голосистым мацунщиком.Уж очень хотелось есть и с
этим приходилось считаться: от голода ему
становилось дурно...
Он едва
успевал открывать и закрывать тамбурные двери,
переходные мостки уходили из-под ног, а иные,
горбатые, даже норовили сбить его, сбросить под
колеса, и хотя разум определял абсурдность
такого исхода (слишком узки были щели), но что-то
там, внутри, сжималось, и появлялась легкая дрожь
во всем теле... Он опасливо перешагивал через
щербатые мостки, через щели между ними, сквозь
которые мельтешили земля и шпалы...
Когда же
Леонид добрался до вагона-ресторана, то
несколько растерялся: что именно ему тут нужно?
«Мацунщика» в белом халате обнаружить не
удалось. Исчез, испарился, как маг, а может, и
загипнотизировал его, Леонида, хотя что он ему
сделал такого? Или что мог?
В зале, за
обеденными столиками, сидели два работника
ресторана и пересчитывали деньги.
Пересчитывали,
не обращая внимания на посетителей, молча, по
четкой системе: складывая красные «бумажки» к
красненьким, синие — к синим... в аккуратные
пачечки и чтобы все — в одну сторону... и делали
это с каким-то особым вожделением, словно считали
свои собственные, а не государственные... Впрочем,
никто ведь не знает, чьи они на самом-то деле...
Может, и вправду, собственные?..
И вместо
того, чтобы сразу потребовать чего-нибудь
съедобного, Леонид, загипнотизированный этим
священнодейством, стоял и смотрел, не отрываясь,
на мелькающие потные руки торгашей, на шуршащие
замусоленные бумажки — такие красные, синие,
желтые... И вроде бумажки самые что ни на есть
обыкновенные... Раньше назывались по-чудному и
строго официально: «Кредитный билет», а сейчас
просто — «рубль», «рублишко», «бумажный»...
— Черт
возьми! — рявкнул кто-то рядом, но работники
ресторана даже ухом не повели...
— Шабаш! —
сказали солдатики за Леонидовой спиной,
развернулись и — восвояси.
Один лишь
он не уходил. Стоял. Смотрел. Ждал.
Тут кто-то,
проходя (бывает же такое), толкнул Леонида в бок,
нечаянно, легонько, и вот стоило ему только чуть
голову повернуть, как в буфете он увидел
маленькие стеклянные бутылки, с яркими
этикетками и содержимым апельсинового цвета под
названием «Фанта».
Вот те раз!
Сколько раз, там, в провинции, слышал он о
загадочной, мифической «Фанте». Сколько раз,
бывая проездом в Москве, пытался обнаружить
следы этого диковинного напитка — в ларьках,
магазинах, буфетах... И всегда безуспешно, а вот
тут, в каком-то самом рядовом вагон-ресторанном,
буфете вдруг натыкается на целую пирамиду из
ящиков с «Фантой». Бутылочки в 0,33 литра,
желтенькие, горлышко к донышку, снизу доверху.
Откуда ни
возьмись и мужик объявился, тот самый:
маг-волшебник, мацунщик-искуситель. Очень
симпатичный, между прочим...
Обрадованный
такой редкой в своей жизни удаче, он заказал
сразу пять бутылок. «Мацунщик» молча, серьезно
выставил заветные пять штучек «Фанты» и
уставился в ожидании платы... Леонид не знал,
сколько все это стоит, и поэтому на всякий случай
протянул пятирублевую бумажку. «Мацунщик» все
также молча сложил ее и спрятал в нагрудный
кармашек халата. Улыбнулся Леониду своей
обаятельной, до ушей, почти французской
барменской улыбкой и занялся своими делами, надо
полагать, неотложными... Словно, и нет покупателя,
ожидающего сдачи... А раз нет покупателя, о какой
сдаче может идти речь. И тогда Леониду стало даже
стыдно: «А вдруг и впрямь столько стоит. Хорошо,
что пятерка в руках оказалась, а то опозорился
бы».
С
приобретенным сокровищем двинулся он в обратный
путь, и поскольку обе руки его были заняты
бутылками, возвращение оказалось втройне
сложнее.
ВОТ ЧТО
СЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ БЕЗ УМА, БЕЗ УМА СДЕЛАНО...
«И черт
меня дернул за этим мацунщиком бежать! Сидел бы
себе в купе, чаек пил: и рублики при себе, и не
мучился бы так...»
А пока до
вагона своего добирался, все чертыхался... И по
поводу напитка, и продавца, и вагона-ресторана, и
вообще всего поезда... не так-то легко дверь
открыть и закрыть в таком положении, а дверей на
вагон — целых шесть штук, а вагонов — и не счесть
вовсе...
Только в
купе Леонид разобрался с «Фантой», и как его
провели, и почему он слова-то вымолвить не сумел...
Бутылка «Фанты» стоила 40 копеек.
— Вот тебе
и «мацунщик» — обаятельный человек, вот вам и
государственные замусоленные бумажки...
Он
прикинул число ящиков, стоящих в пирамиде, число
бутылок на ящик и перемножил на чистую прибыль.
Получилась сумма, превышающая его двухмесячную
зарплату. «Живут же люди!»
Настроение
его почему-то испортилось, и даже «Фанта» (из-за
которой сыр-бор) уже не радовала, хотя чисто
механически он отметил достоинтсва этого
заморского напитка... Впрочем, много позже Леонид
уяснит себе, что достоинства эти были липовые, а
привкус апельсина, исходящий от воды, — только
иллюзия, очень напоминающая улыбку мацунщика.
Эту ночь
Леонид провел беспокойно. В купе было душно. Как
обычно, он ворочался и, кажется, даже храпел. Но
утром ему никто не высказывал своего
неудовольствия... Правда, поглядывали как-то
подозрительно. «Неужели храпел? — подумал
Леонид, пристыженный этими взглядами. — А может,
что-то другое?» Он стал вспоминать подробности
вечерних и ночных событий.
Днем к ним в купе «подселили» двух безбилетников: парня и девушку. И всего-то им часов шесть надо было проехать, но за это время им удалось вывести стариков из себя, да так, что те до ночи успокоиться не могли. Дед принимал валидол и чертыхался по поводу молодежи, а старушка со своим «Ой ли! Ой ли!» крутилась вокруг него, то подушку прилаживая поудобней, то воды поднося, то просто успокаивая... А началось все с эстрады. Певицу не поделили. Известную и в стране, и за ее пределами... Студент, по своей молодости, а может, и от зависти (кто его знает), усомнился в ее способностях, не вообще — в способностях, а в выдающихся... Но тут старик, знаток советской эстрады еще со времен самого Утесова, выступил, подверг молодежь резкой критике. Вот ведь дед: всю дорогу сидел, молчал и все спокойно было, и надо же, не выдержал, встрял, видно, только и ждал, чтобы повод ему подвернулся, а то эти женщины... на него намордник надели и треплются без передыху, а он что же — не человек? В купе стало душно. — Да она же бездарь! — кричал в запале голубоглазый студент, вконец выведенный из себя словами старика минут через пятнадцать после начала инцидента... — Много ты понимаешь, сопляк! — кипятился старик, до того поражавший Леонида своим спокойствием и благообразием. А тут вдруг оскалился, напрягся, рукою своею жилистою за столик ухватился и кричит... Вскоре в купе такой шум поднялся, что народ отовсюду повыскакивал от сильного врожденного любопытства, а проводник из-за большого скопления людей едва добрался до спорящих сторон. — Гнать их в три шеи! — надрывался старик, чтобы все слышали. — Безбилетники несчастные! Рвань длинноволосая! Ишь развелись, паразиты! Возмутители спокойствия перекочевали в купе проводника до ближайшей остановки, а победно трубящий старик еще с полчаса рассказывал иным любопытствующим подробности решающей схватки... Леониду вся эта история порядком надоела и своею бесцельностью, и шумом произведенным... и еще поразил старик: ну чего ему эта эстрадная дива далась? Небось, самому-то восьмой десяток пошел! За что он так переживает? За что кипятится? Ведь певице от схватки этой ни жарко ни холодно. Какая есть, такой и будет... Старик стал ему неприятен, и Леонид, чтобы не глядеть на него, перевернулся на бок и попытался заснуть, хотя понимал, что это ему вряд ли удастся — нервы расшатаны, на пределе уже... так и случилось: сон не шел. Не шел проклятый! А мысли, нарастая хаотично, сталкивались в разгоряченном и утомленном мозгу. Опять возникли образы хохочущих старух, потом — уродов, важно шествующих по улицам и не замечающих его, нормального здорового человека. Потом вдруг спинка кровати вырастала до чудовищных размеров, а он, беспомощный, маленький, срывался с нее и летел в бездну... Черт-те что творилось в его воображении. После пятиминутного такого кошмара Леонид вдруг провалился в какое-то странное состояние — очень близкое ко сну... Он опять оказался на берегу моря. Почему память возвращалась к этой ситуации, он бы тогда объяснить не смог. Впрочем, и не только объяснить. Леонид был бессилен что-либо изменить. Та ночь преследовала его... Только теперь почему-то холод сковывал движения, звезды привораживали своим загадочным блеском, а рядом — море, темное, таинственное... Он бродил по берегу, запуская босые ноги то в мокрый песок, то в теплую воду, а рядом — горели костры. Одинокие. Как, впрочем, и души наши в этом безбрежном мире... Море заманило его откатами волн, своей изменчивостью, своими красками, своим извечным движением, своей близостью... И только он погрузился в эту божественную прохладу, ощутил простоту и спокойствие, как тут же его разбудили... Внизу стоял проводник, рядом какая-то женщина, а на руках у нее ребенок. Они что-то говорили, проводник даже руками размахивал, но Леонид плохо воспринимал происходящее, видно, ощущал еще прохладу моря и шум прибоя... Когда же дошло — просили поменяться: купе на плацкарт — необыкновенная просьба, конечно, но ведь женщина просит, с ребенком! — не говоря ни слова, спустился, собрал свои вещи, глянул на ее билет и пошел. Женщина что-то говорила ему вслед, слова благодарности, наверно, но почему-то вспомнился Ленинград, плацкартный вагон и какая-то очень симпатичная девушка. Она подошла к нему сзади, неожиданно и без всяких вежливых вступлений взяла его в оборот: — Вы на нижней? — На нижней, — ответил Леонид, потрясенный ее красотою... Чем-то напоминала она Милен Демонжо в лучшие ее кинематографические годы (блондинка в изящных своих очертаниях)...