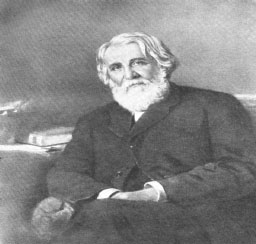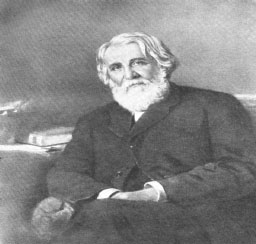Вечные
страницы
Геннадий Цуканов
Когда
заговорит Герасим?..
Несколько
мыслей по поводу «Муму» И.С.Тургенева
Как старая
затонувшая шхуна обрастает ракушками,
хрестоматийнейшая «Муму» давным-давно обросла
легендами, мифами, анекдотами. Помните
сакраментальное: «Странно, «Муму» написал
Тургенев, а памятник — Толстому...»
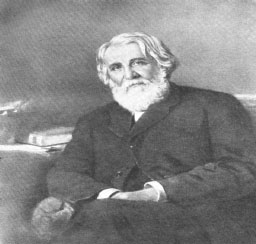
И вдруг на
переломе эпох эта, казалось бы, проржавевшая
насквозь субмарина поднимается со дна тихих
учебных вод и — предстаёт во всей боевой мощи.
Символ, который сопутствует любому произведению
искусства, повернулся к нам в «невиннейшей»
«Муму» какой-то неслыханно трагической,
тревожной и неутешительной гранью.
Правда, и в
дни своего появления на свет в 1854 году история
глухонемого Герасима заставила Герцена «дрожать
от бешенства при изображении этого тяжкого,
нечеловеческого страдания». Но на то он и был
Герцен, а не Фаддей Булгарин. А громадное
большинство либерально ориентированных
общественных и литературных деятелей решило, что
образ могучей, богатырской натуры Герасима,
красота его простой, наивной души
свидетельствовали о глубокой вере Тургенева в
неисчерпаемые силы русского народа. Если это
принять за аксиому, то вряд ли такое шаблонное
согласие добавит глубины тургеневскому шедевру.
Интерпретация, пусть и устоявшаяся в годах,
символических произведений штука коварная,
скользкая подчас, часто просто неблагодарная. И
если Иван Сергеевич именно так и думал о
неисчерпаемых силах русского народа, то ведь
именно он и показал, специально или нет, это уже
другой вопрос, единственно честного, трезвого,
могучего, трудолюбивого, порядочного и истинно
нравственного крестьянина в этом небольшом
произведении — глухонемым. И хотел того Тургенев
или нет, а сотворённый им «символ народа» в лице
Герасима вырвался у него из творческих рук и
больно ударил всё по тому же любимому им
крестьянству. Подумать даже страшно, что
неисчерпаемые силы русского народа,
олицетворённые образом Герасима, полностью
немотствуют. И сразу становится почему-то
тягуче-тоскливо и безнадёжно-безысходно от
преподнесённого нам Тургеневым характера
Герасима, а мало-мальски оптимистической нотки
не прозванивается со страниц рассказа «для
детского чтения». Выводится такое
безрадостно-пессимистическое заключение
достаточно просто и объективно — через текст
«Муму».
По самым
скромным и нетребовательным меркам Герасим не
живёт, а существует. Почти двухметрового гиганта
забирают из деревни в город как бессловесную
скотину. Тургенев находит убийственное в данном
конкретном разрезе сравнение: «Переселённый в
город, он не понимал, что с ним такое деется, —
скучал и недоумевал, как недоумевает молодой,
здоровый бык, которого только что взяли с нивы,
где сочная трава росла ему по брюхо, взяли,
поставили на вагон железной дороги — и вот,
обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то
волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и
визгом, а куда мчат — Бог весть!»
Да,
маловато оптимистичного в образах-символах
русской классики: птица-тройка мчит в будущее
Чичикова, а вагон железной дороги столь же
неудержимо, только ещё стремительней, несёт в это
же будущее глухонемого Герасима! Пространство, а
вместе с ним место, меняется. Деревня на Москву.
Но время, без которого не происходит развития,
застыло для Герасима. Правда, появляется и
глубоко человеческое в душе немого богатыря:
тоска. Откуда она вдруг появилась? Дело в том, что
Герасим стал иметь досуг, свободное время:
«Занятия Герасима по новой его должности
казались ему шуткой после тяжких крестьянских
работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять
то останавливался посреди двора и глядел,
разинув рот, на всех проходящих, как бы желая
добиться от них решения загадочного своего
положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и,
далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю
лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как
пойманный зверь».
И вновь
сравнение с животным. Правда, тут же Тургенев
прибавляет: «Но ко всему привыкает человек, и
Герасим привык, наконец, к городскому житью».
Надо
напрочь и навсегда отбросить поверхностное
устоявшееся мнение, что писатели-дворяне
сусально-лакировочно отображали русское
крестьянство, возвышали его. Оно, это отношение,
было до чрезвычайности непростым. Душой наши
европейски образованные классики литературы
тянулись к мужику и восхищались им, а вот умом...
Умом они не могли однозначно положительно петь
осанну русскому народу.
Желчный
умница, ярчайший образец русского аристократа в
лучших его проявлениях, Андрей Болконский
буквально хлещет по «либеральным щекам» добряка
Пьера Безухова за его попытки
нравственно-экономического улучшения жизни
мужика. Помните тот знаменитый разговор-спор на
пароме во втором томе «Войны и мира»? Вот он,
саркастический, почти яростный
монолог-возражение Болконского:
«— Ну,
давай спорить, — сказал князь Андрей. — Ты
говоришь школы, — продолжал он, загибая палец, —
поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести
его, — сказал он, указывая на мужика, снявшего
шапку и проходившего мимо их, — из его животного
состояния и дать ему нравственные потребности. А
мне кажется, что единственно возможное счастье —
есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить
его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною,
но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих
средств. Другое — ты говоришь, облегчить его
работу. А по-моему, труд физический для него есть
такая же необходимость, такое же условие его
существования, как для тебя и для меня труд
умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать
в третьем часу, мне приходят мысли, и я не могу
заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что я
думаю и не могу не думать, как он не может не
пахать, не косить; иначе он пойдет в кабак или
сделается болен. Как я не перенесу его страшного
физического труда, а умру через неделю, так он не
перенесёт моей физической праздности, он
растолстеет и умрёт...»
Неужели
нравственно незаурядный характер князя Андрея,
его несомненное интеллектуальное богатство
могут сочетаться с подобным высказыванием, более
подходящим какому-нибудь заурядному мизантропу?
Могут! Ибо Болконский и ему подобные «не могут не
думать». И его мыслительная деятельность сродни
тому «страшному физическому труду», которым
занимался русский крестьянин. Противоположности
сходятся. А мысленно соединить и сопоставить их и
могут лишь такие люди, подобные князю Андрею.
Самое неприглядное и пошлое состояние в данной
сложной проблеме — это межеумочная, пресловутая
«золотая середина». Поэтому не будем «обижаться»
на наших классиков, которые далеко не всегда
поверхностно льстили мужику. Просто они весьма
проницательно опасались, что, резко оторвавшись
от своих корней и истоков, мужик нравственно,
морально, умственно и физически деградирует,
душевно омещанится и опошлится. Ведь истинная
умственная деятельность ничуть не легче
«страшного физического труда». Она просто другая
и требует другого отношения. Нужны время и
средства, чтобы до неё естественно дорасти
интеллектуально и духовно.
Посмотрим
только, кто окружает Герасима в его московском
житье-бытье. Тургенев изображает мир дворни
богатой барыни ядовитыми и презрительными
красками. Мягкий и нежный умница Иван Сергеевич
использует гоголевские тона, штрихи и манеру. У
богатой самодурки-барыни «находились не только
прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, — был
даже один шорник, он же считался ветеринарным
врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь
для госпожи, был, наконец, один башмачник, по
имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов
почитал себя существом обиженным и не оценённым
по достоинству, человеком образованным и
столичным, которому не в Москве бы жить, без дела,
в каком-то захолустье, и если пил, как он сам
выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то
пил уже именно с горя...» А главного дворецкого
Гаврилу Тургенев ехидно-издевательски называет
«человеком, которому, судя по одним его жёлтым
глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось,
определила быть начальствующим лицом».
Самая же
симпатичная и обаятельная из женщин среди этой
безликой и малоприглядной массы — искусная
прачка Татьяна, которую глубоко и искренно, в
силу отпущенных ему природой душевно-умственных
возможностей, полюбил Герасим. Но и явно
положительный образ Татьяны какой-то всё равно
ущербный, тоскливый, безрадостный. Хотя,
повторим, она самая привлекательная из всей
остальной дворни. Но разве можно назвать и её
скудное существование жизнью: «Татьяна не могла
похвалиться своей участью. С ранней молодости её
держали в чёрном теле; работала она за двоих, а
ласки никакой никогда не видала; одевали её
плохо, жалованье она получала самое маленькое...
Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё
очень скоро соскочила. Нрава она была весьма
смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой
себе она чувствовала полное равнодушие, других
боялась смертельно; думала только о том, как бы
работу к сроку кончить, никогда ни с кем не
говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя
та её почти в глаза не знала».
Какие
только повороты и нюансы неизъяснимого
любовного чувства за всю свою творческую жизнь
не преподнёс нам Тургенев! И стихийность любви, с
её неподвластностью разуму и воле человека. И
любовь жертвенную и героическую. Любовь
тревожную и дисгармоничную. Поэтическую
сущность любви, не омрачённую житейскими
противоречиями и разочарованиями. Даже
любовь-страдание, любовь-рабство. Но под какую
рубрику подверстать любовь Герасима к Татьяне?!.
И как же до
обидного безропотно и покорно отказывается от
своего чувства могучий Герасим, отдавая Татьяну
в руки горького и глупо претенциозного пьяницы
Капитона. Ещё бы, барыня приказала... Неужели
неисчерпаемые силы народа заключены в таком вот
безответном и покорном послушании? Но если бы в
рассказе Тургенева дело закончилось только этим
прискорбно-унизительным случаем, то хоть как-то
можно было бы примириться с рабским повиновением
Герасима. Дальше же ещё безнадёжнее становится
на душе у читателя. В тине (!) у реки Герасим нашёл
барахтавшегося щеночка. И снова вспыхивает
любовь живого существа к живому, немого к немому,
вспыхивает глубоко и безудержно. Даже
человеческое многозначное и часто
противоречивое слово не мешает и не помогает
этому сильному чувству, быть может, выше такой
любви нет вообще ничего на свете, ибо она равна
инстинкту, подсознанию, пронизывает сам воздух
взаимного сосуществования Муму и Герасима.
И что же
опять?! Честное слово, даже продолжать не хочется,
настолько горькое и безысходное чувство
захлёстывает все рассуждения. Господи, да откуда
же такая безропотность, такая покорность... Вновь
вмешалась недовольная барыня, приказала
истребить Муму, и Герасим своей собственной
могучей рукой повесил камень на шею страстно
любимому и единственно дорогому созданию на всём
белом свете и утопил его...
Страшно
становится. Опять полюса сходятся: абсолютная
рабская покорность и неограниченное
самовластье. Но если в сфере труда физического и
умственного золотая середина весьма часто
предполагает и действительно являет собой
межеумочную бездеятельность и
приспособленчество, то в области безграничной
власти и рабского подчинения ей дело обстоит
совершенно противоположным образом. Эта важная
грань человеческого общежития — власть — чем
больше имеет золотой середины меж полюсами
своими, тем лучше, чем больше гармонии в этой
самой золотой середине, тем легче, уверенней и
достойней всем нам жить и работать. Но, к
сожалению, пока мы все до сих пор делимся или на
«самодурок-барынь» (меньшинство), или на «немых
Герасимов» (большинство). Правда, что ещё больше
добавляет пессимизма, дворни при самовластной
«барыне» становится всё больше и больше. И эту
плотную массу никак нельзя в данном случае
отнести к такой желаемой золотой середине. Это
скорее свинцовая оболочка на безудержном и
бесконтрольном кулаке барыни. И последнее, очень
важное и тонкое добавление ко всем размышлениям
в этом сложном и животрепещущем вопросе. Могучий,
хотя и безответный Герасим не прижился в городе и
вернулся в деревню. Он ушёл без разрешения, можно
сказать, бежал, это была для него высшая форма
молчаливого протеста. То есть самый чистый и
нравственный крестьянин вернулся к своим
истокам. Молча. Всё сказал за своего глухонемого
героя Тургенев сюжетными ходами и поворотами
рассказа. Тем самым Иван Сергеевич вновь, правда,
на другом уровне, актуализировал пушкинскую
знаменитую ремарку из «Бориса Годунова»: «Народ
безмолвствует». Ужасающая несправедливость
крепостного права дошла до края пропасти, если
смотреть со стороны положения крестьян. Но
противоестественность и бесчеловечность вообще
такого состояния можно было сформулировать
только с противоположной стороны, с точки зрения
самодурки-барыни. И выполнил эту задачу Лев
Толстой высказыванием всё того же князя Андрея,
обращенным к Пьеру Безухову.
«— Ну, вот
ты хочешь освободить крестьян, — продолжал он. —
Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю,
никого не засекал и не посылал в Сибирь) и ещё
меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут и
посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого
нисколько не хуже. В Сибири ведёт он ту же свою
скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так
же счастлив, как был прежде. А нужно это для тех
людей, которые гибнут нравственно, наживают себе
раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют
оттого, что у них есть возможность казнить право
и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я бы желал
освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я
видел, как хорошие люди, воспитанные в этих
преданиях неограниченной власти, с годами, когда
они делаются раздражительнее, делаются жестоки,
грубы, знают это, не могут удержаться и всё
делаются несчастнее и несчастнее...»
Вот она,
эта самая важная тонкость, которую завещала нам
русская классическая литература. «Барыня»
(власть) должна смирить свой самовластный гонор,
а «Герасиму» пора перестать быть глухонемым. Ещё
точнее, вообще в идеале не должно быть резкого
противопоставления: барыня — глухонемой
Герасим. Но как и чем устранить и заполнить эту
социальную бездну между неограниченным
самовластьем и безропотной покорностью? Само
бытование и противостояние этих полюсов давно
уже изжило себя. А будет ли эта пропасть власти и
всего остального общества идеологической или
финансово-экономической или
криминально-мафиозной — всё одно. Потому что за
эти долгие годы многие заговорившие
мужички-Герасимы ухитрились влезть в тёплую и
удобную «шкуру барыни» и в силу «свежести»
своего такого положения совершенно не страдают
от нравственного раскаяния...
Впрочем —
это уже отдельная и сама по себе глубокая
проблема, а пока вопрос заключается в том: «Когда
заговорит Герасим?»
Он должен
заговорить сам, находясь на своем привычном
месте, потому что другой — Тургенев — уже всё
сказал, но тургеневского слова уже явно не
хватает. А пока «Герасим» будет оставаться
глухонемым, то он всегда должен быть готов к тому,
что ему придётся отдавать любимых женщин
всяческим «Капитонам» и привязывать камень к шее
страстно обожаемых «Муму»...
[На
первую страницу (Home page)]
[В раздел "Литература"]
Дата обновления
информации (Modify date): 08.06.01 21:43